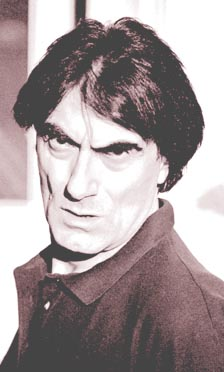
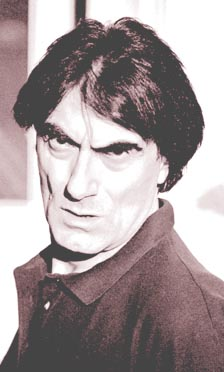
Это интервью после выхода в свет романа о Сталине «Учитель. Апокалисповедь в 100 картинах» (изд. «Вагриус») - по просьбе «Литературной газеты» взяла у Нодара Джина в Вашингтоне его дочь, поэт и эссеист Яна Джин. Подобно отцу, Яна получила философское образование. Стихи пишет по-английски. В русском переводе её поэзия публиковалась в журналах «Новый мир», «Дружба народов» и др. В 1997 г. под рубрикой "Новая литературная звезда" подборку её стихов опубликовала Литературная газета с написанным ранее - для её изданной в Америке книги - предисловием Иосифа Бродского. Книга стихов Яны Джин с параллельными переводами на русский язык выходит и в московском издательстве «Подкова».
Я.Д.: Недавно по ходу радиоинтервью мне задали вопрос - как я живу. Ответила я тоже глупо: живу, дескать, как мой родитель, - рывками. Меня не поняли, и я уточнила: живу как если бы жила в романе История моего самоубийства. Живу как все...
Н.Д.: Я называю это жить не «рывками», а мозаикой. В разные дни всё на свете видится мне по-разному, но чаще всего кажется, что, вопреки любым умопостроениям, всякая жизнь - это постоянно саморазрушающаяся мозаика. Как в калейдоскопе. Но если ещё менее серьёзно, то если это по радио то живу как все следует уточнять так: живу за-логическим. Звучит как зоологическим. Что одновременно и слишком далеко и слишком близко от истины...
Я.Д.: Под мозаикой ты имеешь в виду нынешние времена? Несмотря на то, что за исключением Антарктики почти всюду - в отличие даже от недавнего прошлого - царят уже одни и те же законы?
Н.Д.: Законы, да, одни и те же, хамские, но жизнь - именно за счёт её принципиальной мозаичности - богаче любой логики. Логика - это операционный инструмент, которым оперируют на материале знания. Она зиждится на том, что называют знанием. Это - когда знаю. Но никто ещё не доказал, будто знаю лучше, чем кажется. Или что это даже иное. Тем более, что догадка часто становится знанием, а знание так же часто перестаёт быть таковым. В свою очередь, кажется - одна из гарантий мозаичности жизни в любые времена. В том числе и в будущем, хотя оно наступает медленно, не быстрее, чем со скоростью суток в сутки. Но всё равно: есть предположение, что будущее - это прошлое, в которое входишь через новые двери и что слишком многого не следует ждать даже от конца света. Одним словом - никогда и никому не говори: отчего прежние дни были лучше нынешних, не от мудрости спрашиваешь об этом.
Я.Д.: А ты не говори, будто это твоё не говори сказал ты! Где кавычки?
Н.Д.: В том-то и дело, что в жизни, как в устной речи, их нету! И что, подобно Экклезиасту, каждый проживает эту мудрость как свою заново. Кстати, и он ведь изрёк её не первый.
Я.Д.: Мудрость, стало быть, это постоянное возвращение? Как у Ницше?
Н.Д.: Нет, как у мозаики в калейдоскопе. То же самое, но совершенно заново. Иначе бы ты сказала не как у Ницше, а как у Экклезиаста. Ницше сказал то же самое, что говорил Экклезиаст, но... совершенно заново.
Я.Д.: Вернёмся тогда к прерванному началу: поскольку совершенно заново включает в себя и повторение, я как раз собиралась заданный мне по радио глупый вопрос переадресовать тебе: как ты живёшь? Людей ведь допытывают с тем, чтобы лучше понять себя. Точно так же, как познают неживое чтобы расположиться в нём удобней...
Н.Д.: Наконец-то! Всю дорогу мне не хватало осознания как раз своей утилитарной функции. И не хватало его не только в силу отсутствия того, что называют тут (а теперь и там) профессией, а по причине жанровой принадлежности к живому. Человек - пока не усоп - ничего полезного в природе не творит. Хотя бы для самой природы. Наоборот даже.
Я.Д.: А когда усоп? Что полезное творит потом?
Н.Д.: Торчит затычкою в щели! Дано всем. Не только тем, пред кем весь мир лежал в пыли.
Я.Д.: Ты опять про своего Сталина?
Н.Д.: ?!
Я.Д.: Своего хотя бы в том смысле, что видишь его по-своему. По-философски.
Н.Д.: Тише! В Америке звучит ругательством даже слово по-философски. Американцы извиняются когда говорят что-нибудь неконкретное. Быть может, они правы: жизнь не имеет ничего общего с мыслью и высовывается всегда в конкретностях. Но с другой стороны, нельзя же жить только жизнью.
Я.Д.: Твой Сталин как раз слишком не-американский: философствует.
Н.Д.: Да, американцем он тоже никогда бы не стал, но зато стал счастливчиком: допытывал себе подобных, чтобы лучше понять... их. И лучше потом их же расположить в природе. Он не щель, - огромную брешь взялся заткнуть в человеческой природе. Свою утилитарную функцию Иосиф представлял себе чётко - и потому я отношу его к состоявшимся людям. Роман о нём я, кстати, поначалу так ведь и хотел назвать: Повесть о настоящем человеке. Вынести это в подзаголовок лишь как уточнение жанра. Уже была книга с таким названием. Правда, Сталин типичнее одноногого супермена из той книги. А не назвал я свою книгу Повестью о настоящем человеке» из страха за читателя, который мог бы узнать в Сталине себя, как узнал себя в том супермене. Узнать и опять звучать гордо. Ведь как прекрасно сказал Андрей Платонов, в каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него - сотворение мира. Но идея, будто человек звучит гордо не имеет под собой никакого основания и до добра не доводит. Как с точки зрения твари, так и - Творца.
Я.Д.: Но сам ведь Творец и поставил человека над прочими тварями!
Н.Д.: То был не Творец, а ангажированный еврейский писатель, сочинивший (для включения в Библию в качестве начальной главы) легенду на заданную тему - о сотворении мира. Потому у него и вышло, будто, во-первых, есть Творец, а во-вторых, Он, Творец, - настоящий человек. По образу и подобию. Подобно многим нынешним, тот древний писатель хотел угодить и себе и читателям: мы, мол, все походим на Творца и давайте все вместе и в отдельности звучать гордо. Но и сам он, и его аудитория, и даже Творец получились в легенде мерзкими. Ибо писатель он был как раз хороший. Реалист. Уже во второй главе герой копается в собственных рёбрах, из которых вытачивает себе женщину, которая, по словам того же Платонова, есть вообще скупление безумия вселенной, и цель женщины - не увидеть рай, а упасть у врат его. В той же главе тот из её двоих отпрысков, который хотел звучать более гордо, кокает второго.
Я.Д.: К Сталину мы ещё вернёмся, точнее, к тому - почему же ты не вынес в заглавие про настоящего человека. Но пока - о тебе: как живёшь именно ты?
Н.Д.: К Сталину, боюсь, вернёмся не только мы с тобой.
Я.Д.: Некоторые из прочитавших твой роман испугались, что ты этого как раз и не боишься! Потому, мол, и назвал его Учитель.
Н.Д.: Я скажу чего не боюсь. Не боюсь, например, что история многократно повторяется, ибо она повторяется ещё и для того, чтобы её легче было запомнить и - смеяться. То есть - чтобы жить стало легче. А боюсь я как раз того, что люди, увы и ура, каждый раз живут совершенно заново. Как если бы никто до них пока не жил. И каждый раз вечность начинается сначала. Так было всегда, а не только сегодня, когда, кстати, и среди естественников, и среди философов модно говорить о гипермодернистском, нулевом, сознании. Дескать, главное настроение времени - нетерпение, лишённое глубины, а главный процесс - высыхание колодцев мудрости, традиций и культуры. Дескать, Р-Р-Р: Решительная Рецессия Реальности. Говорить об этом модно уже и среди историков - с лёгкой руки Эрика Хобсбома, прославившего себя Краткой историей двадцатого века. Произошло, мол, непоправимое: великое разрушение прошлого. И грядет, мол, затяжная эпоха временнОго вакуума. Боюсь, так было всегда - и не от мудрости изрёк он такое. Как не от мудрости восклицал и библейский пророк: О, как разбит и сломан молот всей земли!
Я.Д.: Но Хобсбом - раскаявшийся марксист, которого тяготит крах коммунизма.
Н.Д.: В том-то и дело, что краха с коммунизмом не случилось. Хотя бы потому, что, как известно, в коммунизме есть тоска по утраченному раю. А ностальгия, как тоже известно, - сильнейшее оружие. Коммунизм ушёл только чтобы вернуться. Конечно - совершенно заново. Точнее, он никуда не уходил. Переоблачается в примерочной будке. Уже сейчас призрак его бродит не только по той же Европе. Хотя, конечно, бродят по миру (за исключением Антарктики) не только призраки коммунизма, но - и другие. Призраки всего, что есть в мозаике. Даже тут, в Америке. Почему, думаешь, местных горилл и аятолл так оскорбил кунилингус в Оральном зале? (Правда, в моём Учителе кунилингусу воздал должное даже Сталин, хотя, правда, не в кремлёвском кабинете, а на даче! Кавказское воспитание всё-таки!) Потому, что Клинтон - первый в истории этой страны как бы антиамериканский президент. Как бы - европейский соцдемократ. Задумавший разбавить исконно американскую философию (подчёркнуто джентльменская бомбёжка городов планеты и т.п.) и символику жёлтого дьявола грубой философией и символикой социализма, то есть сырой библейской морали...
Я.Д.: Подчёркнуто джентльменская?!
Н.Д.: Считается, что джентльмен, во-первых, аккуратен, во-вторых, никого не удушит ни случайно, ни без перчаток, а в-третьих, надеется, что кто-нибудь это подчеркнёт. Если бы Советский Союз всё ещё существовал, то наши с тобой вашингтонские подчёркнутые джентльмены и отъявленные гориллы в бабочках попросту выселили бы Клинтона на Луну. Как выселили бы всех негров, следуя безупречной логике: если можно высадить там белого человека, - почему нельзя чёрного; а если можно высадить одного чёрного, - почему нельзя всех? Существуй сегодня Союз хотя бы на правах Луны - Клинтона эти гориллы могли бы и кокнуть, как кокнули Авеля.
Я.Д.: Ты имеешь в виду - как Кеннеди и Кинга?
Н.Д.: Нет, их убили по-джентльменски. Я имею в виду именно - как Авеля. Как при сыром социализме. Грубо. Как кокнул его настоящий его брат и настоящий же человек по имени Каин. Потом все и всегда кокали так же, но... совершенно заново. С переменным соотношением грубости и джентльменства.
Я.Д.: Почему же тогда ты, действительно, убрал из под заголовка Учителя слова Повесть о настоящем человеке и определил жанр как Апокалисповедь?
Н.Д.: Потому, что Сталин, не переставая быть настоящим человеком, - совершенно исключительная личность. Супермен, а не серая клякса, как назвал его проигравший ему также и в знании настоящих людей Троцкий. Или как называет его сегодня большинство мыслителей, которые на самую лёгкую поверку куда серее Сталина. Супермен - это не оценка, это - положение в природе. Это - сверхобычность. Это - Учитель. Как был, например, Учителем второй главный персонаж моего романа - Христос. И никакой философской или нравственной крамолы я тут не вижу. И Христос, и Сталин замахнулись на природу, ибо настоящий человек им не нравился. Оба вознамерились его изменить, первый - властью духа, второй - кулака, хотя ни первый не брезговал кулаком, ни второй - духом. То есть оба были политиками. О разнице между ними можно говорить по-всякому и поэтому я о ней говорить не буду. Скажу тут бесспорное: никто кроме Христа не обретал такой власти над сотнями миллионов настоящих людей. Никто... кроме Сталина. Оба попытались заделать великую щель в человеческой природе. Поэтому, кстати, мой Сталин величает Учителем не Ильича, а... Иосифовича. Иисуса. Не того, кто учил отступать на шаг прежде, чем сделать два вперёд, а того, кому мало было даже всей земли, ибо... на земле живут лишь настоящие люди.
Я.Д.: И ни одному из твоих двух учителей, ни Христу, ни Сталину, ничему никого научить не удалось, да?
Н.Д.: Им не удалось приучить настоящих людей к наученному. Не удалось изменить неизменяемое. Но подобно тому, как не убий, не воруй, не лги и всё прочее что неосуществимо, - подобно тому, как всё это обречено на постоянное забывание, людская история и человеческая душа есть вечно возвращающаяся амнезия. Постоянное дежаву с амнезией. Мой Сталин, как это ни парадоксально, так же трагичен, как Христос. И подобно Христу, он это сознаёт. Но сознаёт не как бог, а... как тот самый еврейский писатель, который придумал сказку о Творце. Сказка красивая: бог создал нас глядясь в зеркало, представился фразой я есть кто я есть и обещал, что все мы будем как боги! Но уже во второй главе - если ты реалист, каковым «романист» Сталин и был, - понимаешь, что людям суждено оставаться людьми. Теми, кто они есть. И что реалистически выписанный в любой апокалисповеди Творец, как и любой Учитель, в том числе и Христос, - настоящий человек. Поэтому сталинский Христос оказался именно тем, кем он на самом деле был - умнейшим политиком, проигравшим лишь битву (иудейский престол), но вознамерившимся выиграть войну: умы не только всех холопов, но и всех царей.
Я.Д.: И конца этому, ты хочешь сказать, нету? Всё повторяется, но совершенно заново?
Н.Д.: Да. Истина, быть может, как раз в том, что либо её нету, либо она в себе не уверена. И потому постоянно повторяется. На свете ничего нового не происходит - и происходит это очень медленно. Со скоростью прорастания щетины на лице - когда смотришь в зеркало. Или со скоростью замерзания воды в луже - когда смотришь в окно. История всех людей, как и история каждого человека, - это материал, к которому невозможно придумать правильный вопрос. Потому что вопросы меняются, их тьма, и каждый лучше другого: каждому правильному вопросу противостоит, как известно, не неправильный, а более правильный. И ещё потому, что любая биография, как и история любой страны, крохотной или империи, - это история самоубийства.
Я.Д.: После Истории моего самоубийства, книги о самом себе, ты написал сталинский роман тоже от первого лица, от лица Сталина. Сталина как якобы романиста. Только ли потому, что написанное от первого лица кажется более откровенным?
Н.Д.: Историю я писал от первого лица потому, что этого лица, первого, она и касалась. История - это исповедь. История саморазрушения, ухода того, что пришло, постепенного превращения в ничто того, что из ничто и возникло. Что же касается апокалисповеди, то тут я решил, наоборот, покинуть себя и воплотиться в своего земляка Сталина, тогда как сам земляк притворяется в книге писателем, решившим сочинить правдивый роман о себе и о моём сородиче, об Учителе, пригрозившем нам Апокаллипсисом...
Я.Д.: На этом я тебя и прерву: твой сородич Иисус Христос и твой земляк Иосиф Сталин... Не слишком ли большая натяжка? Такая же, правда, какая случилась в самой твоей жизни как ты её описал в Истории: будучи внуком грузинского раввина, в юности практикуешь марксизм!
Н.Д.: Во-первых, в человеческой душе помещается не меньше миров, чем во вселенной. И если, скажем, оба героя случились быть моими (в одном случае - земляком, в другом - сородичем) или ещё чьими-нибудь, то ничего, значит, в этом некошерного нету. Но даже если бы - в отличие от вселенной - в душе помещался только один мир, то и тогда никакой натяжки я бы не узрел. Несмотря на то, что уже не практикую марксизм. А не вижу натяжки по простой же причине. Той самой, что никакой натяжки не вижу в сближении библейской и марксистской морали и философии. Как никакой натяжки не было в том факте, что сам Маркс был внуком раввина.
Я.Д.: Но Маркс утверждал, что он не марксист.
Н.Д.: Правильно: всё совершенно заново. Но он всё-таки был марксист: даже от истины невозможно удаляться сразу в нескольких направлениях... Я хочу вернуться к земляку, будучи за тридевять земель от нашей с ним родины. Я решил представить его в романе в качестве автора этого романа исходя из того, что, как он выразился, без неправды народ не верит правде. Или, заимствуя слова из названия книги нашего с ним другого земляка, всамделишнего писателя, Сулхана Саба Орбелиани, мудрость в вымысле. В том смысле, что правда заключается часто именно в вымысле.
Я.Д.: К предмету нашего разговора ближе, по-моему, слова, произнесённые в вашей со Сталиным книге ещё одним вашим же земляком, достопочтенным Берия. На сталинское без неправды народ не верит правде он парирует в своём бесподобном и, увы, бессмертном стиле: Без неправды народ не верит даже неправде. Такое впечатление, что, не выезжая из Москвы, Берия вернулся из Вашингтона.
Н.Д.: Это - не бесподобный стиль, а неправдоподобный. То есть - как если бы не выезжая из сталинской Москвы, Берия вернулся вдруг в неё из нынешнего Вашингтона. Смысл этих его слов, по-моему, в том, что, хотя неправда и правда есть часто одно и то же, между ними - не пустота, а много разных вещей. Пёстрая мозаика в калейдоскопе, где ни один ломтик стекла никак не связан с другим, но все неизбежно смешиваются со всеми, отражая их краски, формы и свет. Каждая на свете вещь - сама по себе, но в каждой же вещи есть всё! Бывшая некогда в ходу идея победившего социализма, например, не более и не менее правдива, чем муссирующаяся ныне идея проигравшего социализма.
Я.Д.: То есть что - анархизм? Правды, мол, нет нигде?
Н.Д.: В общественном её найти трудно: социальная правда вечно меняется. К тому же её - пусть и на словах - отстаивают порой столь заядлые подлецы, что создаётся иллюзия, будто виновата в том она. А всякая иллюзия мешает, ибо некая правда таится всегда и в ней. Поэтому, скажем, в отличие от Христа, я не стал бы призывать к кроткости по той именно причине, что кротким придётся унаследовать эту землю. Мне их просто жалко. С этой точки зрения совет звучать гордо может даже показаться оправданным. И ещё: всякое социальное блюдо услаждает приблизительно столько же желудков в среде гордецов, сколько отравляет их в среде кротких. И всё-таки качество любого социального блюда следует измерять процентным наличием в нём такого ингредиента, как справедливость, равенство. Учитывая при этом, что техническая оснащённость нынешних лабораторий позволяет дистиллировать всё из всего. В Америке поэтому и стало так модно намекать на достоинства органической пищи, каковой, конечно, тут является как раз несправедливость. Столь нежно замороженная и столь искусно упакованная, что социальные кулинары уже не стесняются называть её натуральной истиной.
Я.Д.: У живущего тут хорошего русского писателя я вычитала, что пора перестать бояться стыдной тайны неравенства. Люди меж собой неравны от рождения, а если все они от рождения же равны перед Богом, то только потому, что Он непомерно велик и наши различия перед лицом Его всеведенья ничтожны. Я не поверила, ибо Бог - как бы далеко от нас ни пребывал - догадался бы смастерить себе сильный бинокль и убедиться, что при любом приближении люди мало чем отличаются не только друг от друга, но и от Него.
Н.Д.: При близком рассмотрении люди отличаются и друг от друга, и от Него, но я говорю тут не об абсолютном, а об элементарном равенстве. Материальном. В небеса к Нему все мы прибываем с примерно равным бюджетом, ибо расходы нам предстоят там примерно одинаковые. Сказка ложь, да в ней намёк. Абсолютное равенство столь же абсурдно, сколь абсолютная свобода от предрассудков, которая к тому же может быть ещё и очень негуманна: я знал мудреца, полностью свободного от предрассудков, ибо всех на свете он ненавидел одинаково. Я говорю о том самом равенстве, точнее, о той справедливости, о которой говорили те же билейские пророки и рыцари социализма. Тот же Сталин даже. Который не только говорил о ней. Если её удастся отстоять, то удастся увернуться и от цинизма, от уайльдовского всему знать цену, но ничему её не придавать. Впрочем, как это ни странно, мало кому даётся и абсолютный цинизм. Иначе бы все следовали логике уайльдовского всезнайки и кончили бы тем, к чему призывал Шопенгауэр - актом самоубийства. Но сам он тем не менее не кончал с собой, а продолжал жить и запрашивать высокие гонорары за сочинения о нецелесообразности существования. Так и поэт Эллиот, говорят, достиг славы благодаря тому, что притворялся трупом. Не решившись пока стать трупом, я и сам, кстати, продолжаю писать роман после искренне написанного романа о своём самоубийстве. Как это, повторяю, ни парадоксально.
Я.Д.: Говоря о парадоксах. Леонид Бахнов писал, будто твой стиль отличается прежде всего крупным подходом и парадоксальностью. Будто ты изъясняешься афоризмами и афонаризмами. Я не согласна, ибо, по-моему, ты каждую вещь пишешь по-новому, что меня - учитывая тем более твой неюный возраст - удивляет. Чтобы не сказать - раздражает. А ты согласен?
Н.Д.: Согласен или нет - значения не имеет. Всё есть всё - и наоборот. Но если кто-либо имеет в виду, что у меня всё как раз наоборот, то этот кто-либо прав. Я начал писать прозу поздно по сегодняшним стандартам продолжительности человеческой жизни.
Я.Д.: Что значит сегодняшним? Ведь ничего нового нету?
Н.Д.: Кроме, увы, продолжительности жизни: по меркам библейских пророков, я - ещё дитя. Не только в смысле знаний и догадливости, но и в смысле срока существования. А по стандартам Древней Эллады уже припозднился... Так вот, прежде, чем решиться на писание романов, я занимался разными вещами - философией, фотографией, журналистикой, кино, преподавательством. Почти всем, чем можно заниматься не имея профессии; всем кроме политики, ибо честного политика из меня не получилось бы: честный - это тот, кто верен купившему его, а меня, боюсь, никто не захотел бы и купить. Зная, что я часто меняю если не убеждения, то пристрастия. А также из-за упомянутого тобой неюного возраста: старый хорош не я, Джин (с большой буквы), а джин. С очень маленькой... Писательствовать, однако, я начал не просто потому, что, перефразируя Толстого, не писать уже не было сил. И не просто потому, что, перефразируя Гегеля, творчество есть высшая форма развития духа, то есть... ничегонеделания. Дело, увы, в более серьёзном: мир сегодня как-то так устроен, что чем бы ни занимался, ты его утверждаешь...
Я.Д.: Опять сегодня?! От мудрости ли это?
Н.Д.: Всегда, но особенно сегодня. Так вот, чем бы ты ни занимался в мире, ты его канонизируешь. Благославляешь таким, каков он есть. Даже если ты не адвокат или священник, не царь или уже воцарившийся сын сапожника. Как бы тебя ни возмущал лик мира сего и кем бы ты ни был, ты поневоле делаешь всё, чтобы он не изменился. Вот тебе новая истматовская формула: жить в обществе и быть непричастным к его утверждению невозможно. Есть только два занятия, призванные подрывать всё устоявшееся - революционная деятельность и деятельность художническая. Для первого мне - в отличие! - не хватает ни храбрости, ни сил, ни умения, ни молодости. Зато благодаря долгому изучению искусства удалось внушить себе, будто если оно не утверждает то, что называют наоборот, если оно не парадоксально, то именоваться настоящим искусством не может и не должно. Может и должно называться декоративным. Недаром поэтому Платон изгонял художников из идеального государства. Идеального с точки зрения тех, кто желал бы его продления...
Я.Д.: Я говорю о парадоксальности не столько стиля и образов, сколько мышления. Вообще и, в частности, в Учителе.
Н.Д.: В этом отношении как раз ничего парадоксального или самобытного я в себе не вижу. Всё просто. Назову лишь две причины. Сперва - вообще: неустроенность в жизни есть основной источник оригинальности. Теперь - в частности: Сталин получился у меня непривычным только потому, что люди не привыкли видеть в нём прежде всего человека. Людям свойственно забывать, что и бог, и дьявол это прежде всего настоящий человек. Кстати, сам Сталин размышлял куда самобытнее, чем я. Почему? Был в жизни ещё более неустроен.
Я.Д.: Тот же Бахнов, обвинивший тебя в самобытности, написал, что, читая твои вещи, ему вспоминается Великий инквизитор Достоевского и что он имеет в виду не стилистику, а подход к действительности...
Н.Д.: Хотя сравнение льстит, больше всего меня сближают с Фёдором Михайловичем вечные долги.
Я.Д.: Кто, кстати, из классиков нравится тебе больше всех?
Н.Д.: Нравятся все хорошие - и, не исключено, мой золотой список длиннее, чем у самого либерального критика. И в этот список я постоянно вношу новые имена, - писателей, которых понимаю. Я не критик, и для меня понимание литературной вещи начинается с её вхождения в мою жизнь и воздействия на мои переживания. Поэтому каждый из хороших писателей в разное время в зависимости от обстоятельств моей жизни нравится больше остальных. В зависимости от этого остальные нравятся тоже не одинаково. Одни нравятся сегодня более одинаково, другие - менее. Уже целый месяц, например, мне снова больше других нравится Платонов. Люди угощают себя выдумкой. Отчего обезьяна-то стала человеком - или ей плохо было? Умирая, он стал кушать хлеб, чтобы зря не пропал паёк. Мысль ещё не твёрдо стоит в мире, не сбалансирована с природой, и от этого происходят всякая мука, отрава и порча жизни. По-моему, гениально!
Я.Д.: Сравнивая тебя с другими писателями, тот же Бахнов отметил, что твой Петхаин из Истории моего самоубийства вполне можно включать в литературно-географический атлас: Йокнопатофа, Макондо, Чегем, Петхаин... Жалко, сейчас мало читают - такая книга не должна бы остаться незамеченной.
Н.Д.:
Теперь вот я, пожалуй, и отвечу на твой начальный вопрос Как ты
живёшь? Причём, отвечу так, чтобы получилось сразу и про сталинскую
книгу, и про первый роман.
История моего самоубийства
открывается картиной из детства. Петхаин. Древний еврейский квартал в
пыльной грузинской столице. Каждое утро мой дед, сентиментальный раввин
с лицом со старинного медальона, тащит меня в синагогу, где пахло как
из подмышки. Там мне предписывается брать в руки покривившийся от
старости молитвенник и читать нараспев два давно заученных текста. В
первом речь шла о том, будто Господь наш Всевышний - Совсем Один.
Второй текст благодарил одинокого Бога за то, будто Он вернул мне утром
на суточный прокат мою же душу. После синагоги я бежал в школу, и
сопровождал меня - в мундире полковника правосудия - отец. Размахивая в
руке кожаной папкой с теснённым профилем Сталина на обложке, он спешил
на работу в прокуратуру.
В школе было ещё хуже, чем в
синагоге, потому что меня истязал там обёрнутый чутким фиолетовым
шёлком необъятный зад учительницы пения. Она учила нас заветным,
незастольным, песням. В том числе - о нерушимом Союзе с двумя соколами
в небе: один сокол Ленин, другой сокол Сталин.
Но наконец мне улыбнулось
счастье, повергшее в ужас всю мою семью: в город прибыл эксадрон
чеченских кавалеристов с папахами и с предписанием курировать выселение
евреев из Петахина в Казахстан, куда в своё время Сталин выселил тех же
чеченцев и где из Грузии способна выжить только дыня. Я, правда, думал
тогда иначе: мне хотелось чего-то нового, не смрадного, не кривого и
узкого, как улицы Петхаина, а очень широкого, как оранжевая степь с
красным диском сочного солнца на горизонте. И с аккуратно
расфасованными дюнами.
Отец горевал и - в ожидании
выселения - просиживал сутками у морозного окна, обмотанный одеялом.
Горевали все кроме меня и... деда. Который искал в новом пергаментном
свитке Торы описку, обрёкшую, по его мнению, всех нас на великую
неудачу. Это длилось долго, но когда наконец он ошибку обнаружил, в ту
же минуту в нашу квартиру ввалился припудренный снегом сосед и произнёс
в пространство четыре слова: Это, ну, Сталин умер...
Вот так просто и отменилось
моё изгнание в несуществующий рай. Без оглушающей тоски по которому я
не научился жить. Человеку нигде не прощается вера в возвращение
праздника, который - поскольку его никогда не было - расположен в
будущем. И если даже завтрашний праздник обманчив, как вчерашний,
человек жив только пока возвращается в будущее.